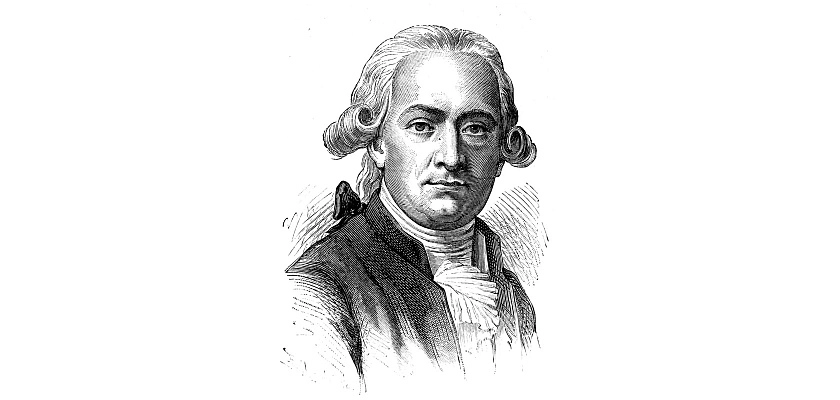
Кратко:
Публикуем продолжение биографической заметки, написанной поэтом и писателем Владимиром Бухтияровым. Часть вторая.
07.11.2025
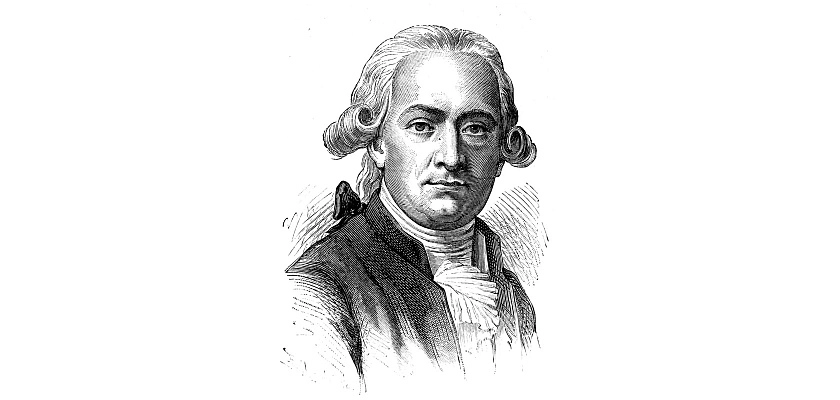
Кратко:
Публикуем продолжение биографической заметки, написанной поэтом и писателем Владимиром Бухтияровым. Часть вторая.
Бесспорно, лучше налегке
Идти на риск в проекте смелом,
Надеясь, пусть и вдалеке,
Обзавестись достойным делом.
Живя в годину перемен,
Назло вгрызаемся в потери,
Чтоб возле выщербленных стен
Уткнуться в запертые двери.
Растут невзгоды, как грибы,
Укрыта мглою перспектива.
Прильнув к обочине судьбы,
Сведём баланс неторопливо:
Пока итоги не ахти —
Бессильем стрессы одолели.
Все ж будем пробовать ползти
К недостижимо сладкой цели!
Несомненно, многие классические произведения хранят упоминания о судьбах «людей во тьме», хотя обычно у них второстепенные роли. Вот и увлекательные «Письма русского путешественника» не являются исключением из традиционных правил. Они начали вырываться из-под бойкого пера юного Николая Карамзина на ямщицкой станции в Твери 18 мая 1789 года, а через дюжину месяцев неспешной тряски на наемных лошадях по Прибалтике, Польше, германским государствам и Швейцарии будущий яркий популяризатор истории оказался в Париже. Там и произошли знаменательные визиты в уникальные учебные заведения, обрисованные по горячим следам. Понятно, что фрагменты соответствующего содержания вызывают неподдельный интерес. Судите сами:
«Нынешний день видел я две чудесные школы: училище природно глухих и немых, которым посредством знаков сообщают самые трудные, сложные, метафизические идеи, которые знают совершенно грамматику, разбирают все книги и сами пишут ясным, чистым, правильным слогом, и еще другую, не менее удивительную школу природно слепых, которые умеют читать, знают музыку, географию, математику…
В другой школе, заведенной господином Гаюи, слепые учатся музыке, арифметике, чтению и географии посредством выпуклых знаков, букв, нот и ланд-карт, разбираемых ими по осязанию. Ученик, щупая ряды литер и нот, перед ним лежащих, читает, поет, прикоснувшись рукою к четкому контуру, говорит: "Здесь Париж, тут Москва, здесь Отагити, тут Филиппинские острова…"
Швед тихонько перевернул карту, юный француз, дотронувшись до нее, сказал: "Она лежит вверх ногами…". И снова оборотил ее. Как у зрячих судят глаза о расстоянии предметов, их взаимных отношениях, так у слепых осязание, удивительно тонкое, верно соглашенное с памятью и воображением. Например, если я, зажмурив глаза, ощупаю несколько предметов, то мне очень трудно будет понять их взаимное между собою отношение, от непривычки судить о вещах по осязанию; напротив того, незрячие воображают по ощупи так же быстро, как мы по глазам.
Надзиратель хотел сделать нам полное удовольствие и велел подопечным петь гимн, сочиненный для них Обером. Прекрасные голоса! Трогательная мелодия! Милые слова! Мы заплакали. Наставник увидел слезы наши, велел ученикам своим повторить гимн. Вот перевод его:

Нельзя отрицать, что Гаюи впервые сконструировал специальные устройства, а также матрицы для изготовления рельефных атласов и глобусов. В его типографии была выпущена «Краткая французская грамматика», а затем появились идентичные учебные пособия для изучения древнегреческого, латинского, итальянского, испанского и английского языков. В библиотеку поступали довольно полные хрестоматии шедевров мировой литературы и даже отдельные бестселлеры.
Интуитивный гуманист считал тотальников абсолютно полноценными людьми, так определяя задачи их образования: «Необходимо дать возможность всем слепым заниматься, избавив их от тяжкого и опасного бремени праздности, способствующей усвоению худых привычек и даже пороков. Требуется занимать их отдельно, а еще лучше сообща, работами, полезными для общества и для них самих. Бедным между слепцами следует доставить источник заработка, спасающий их от прошения милостыни и от нищеты. Нужно возвратить обществу праздные, но здоровые руки поводырей, существующих на счет благотворительности. Незрячим из среды достаточно состоятельной следует доставить возможность заниматься науками, литературой и искусством, достигая этих целей при помощи таких же пособий, что и у зрячих. Для того же, чтобы они были в состоянии запасаться сведениями путем собственного чтения, требуется снабдить их книгами, напечатанными рельефом, и научить их письму, которое послужит им средством закреплять собственные мысли на бумаге. Оно может служить пособием и для их деловых заметок…»
Переломным стал 1786 год, когда был Издан монарший указ о преобразовании «Мастерской трудящихся незрячих» в «Королевский институт для слепых детей» на 30 школяров. Тем самым количество осчастливленных подданных увеличилось на целых 6 недужных персон. Постепенно их список вырос вчетверо и достиг ста двадцати.
Чтобы их нормально разместить, помимо здания на улице Сен-Виктор, неординарному учебному заведению выделили дополнительное помещение в обители Святой Екатерины, где недавние беспризорники овладели целым рядом ремесел, что позволяло им отказаться от нищенства. Они успешно изготовляли корзины и щетки, работали на ткацких и печатных станках. Среди них появлялись профессиональные церковные певчие, пианисты и скрипачи.
У наиболее инициативных подшефных первопроходцев «шершавых путей познания» развивали стремление к самостоятельности, благодаря чему успели подготовить 9 наставников, продолживших образовательную реабилитацию собратьев по несчастью. Благодетель изгоев общества подчеркивал: «Каждый учитель слепых должен быть проникнут сознанием, что жизнь его — есть жизнь труженическая, полная служения делу, для которого необходим не только запас физических сил, но и много нравственной энергии…»
Сравнительно уютное существование под покровительством сильных мира сего оказалось очень кратким. Грозные вихри буржуазной революции подорвали материальное благоденствие подопечных неуемного созидателя. Учебному заведению поневоле довелось и вывеску переделать. С присвоением в 1791 году нового статуса, первоочередные задачи «Национального института для слепых детей» тоже коренным образом изменились.
Поначалу Законодательное собрание Франции даже выделило «никчемным нахлебникам» государственные стипендии, но когда в стране разразился экономический кризис, казна целый год не выплачивала им ни одного сантима. В итоге задолженность составила сорок две тысячи франков. Чтобы как-нибудь выжить, они в своей типографии по специальным заказам печатали афиши, листовки, объявления и брошюры революционного содержания, а их оркестр принимал участие в народных праздниках и политических мероприятиях. Вкалывали частенько попросту за еду. Однажды, прославляя триумф генерала Жана Батиста Журдана в битве с австрийцами, полуголодные музыканты великолепно исполнили «Победный марш», а за это виртуозов накормили сытным обедом.
Увы, в 1801 году первый консул Франции Наполеон издал декрет, по которому, ради экономии, Парижское прибежище сострадания было слито с привилегированной богадельней. Так печально завершилась 17-летнее служение Валентина Гаюи на поприще просвещения обездоленных. Попытки заняться частным репетиторством богатеньких наследников тоже оказались тщетными.
Приходится констатировать, что далеко не все современники по достоинству оценили феноменальные результаты изысканий Гаюи. Зато их значение было прекрасно известно проницательному генералу М. Н. Хитрово, который на третьем году правления Александра Первого, от его имени, пригласил безработного преподавателя широкого профиля перебраться в Северную Пальмиру. После неизбежных сомнений, тщательно изучив детали предложения, бесстрашный отец семейства все же отважился сменить цивилизованный комфорт на таинственную глухомань и согласился на переезд, а уже 20 августа 1803 года представил актуальную справку, обозначив ее содержание так: «Об основании в Петербурге заведения для полезного занятия слепых, по примеру учрежденных уже во Франции заведений в пользу сих людей, столь несчастных и достойных сожаления…»
Двухлетние переговоры продолжались с переменным успехом. В очередной записке уже от 22 июня 1805 года маститый педагог продолжил вполне мотивированные рассуждения «О вернейшем и скорейшем способе учреждения в Петербурге училища для незрячих…» В ходе переписки деликатный ученый не касался размеров своего жалования и устройства быта на новом месте, а между тем в личном письме приятелю он признавался: «Вам известно, что я человек небогатый. Сооружение храмины обездоленному природой человечеству поглотило все мои денежные средства…»

Наконец, второго сентября защитнику всех «ущербных глазами» сообщили, что его условия приняты. Лишь после долгожданной вести он начал основательно готовиться к изнурительному марафону по разбитым дорогам Европы, но сборы затянулись. Вынужденный задержаться переселенец спустя несколько месяцев все-таки стартовал вместе с женой и тринадцатилетним сыном Жюстом, который затем остался в России, став членом-корреспондентом Петербургской академии наук и составив компанию своему «минералогическому» дядюшке Рене.
Кстати, вояж во многом повторил карамзинский маршрут пятнадцатилетней давности, уже прославленный в опубликованных заметках. Правда, двигались в обратном порядке, поневоле задерживаясь в транзитных городах, потому что активно пропагандировали успехи образования и духовного совершенствования подростков без остатка зрения. К тому же «просветительский десант» был обременен громоздким багажом, так как буквально на себе пришлось волочить тяжелую мини-типографию с латинскими литерами, рельефные наглядные пособия и геометрическую доску Саундерсона, а также эксклюзивные тифлотехнические приборы и приспособления.
Шестидесятилетний «гастролер» лишь девятого сентября 1806 года добрался до берегов Невы, где без промедления отыскал увлеченных энтузиастов социального просвещения. Двумя преданными помощниками мэтра стали его соотечественники с подходящими навыками, а за русскую словесность отвечал эрудированный студент местного университета по фамилии Галич.
Остановившись в гостинице «Норд» на Офицерской улице, Гаюи сразу же резво взялся за обустройство учебной базы, но столкнулся с чудовищной безалаберностью мелких чиновников, курирующих хозяйственные вопросы. Естественно, поиск потенциальных претендентов велся из рук вон плохо. К тому же целевые ассигнования использовались неэффективно, что происходило из-за вопиющей некомпетентности и склонности к волоките служащих Министерства народного просвещения во главе с графом П. В. Завадовским.
Дошло до того, что когда подготовка была завершена и приспел срок набирать полный класс школяров, ленивые «канцелярские крысы», приглядывавшие за фанатом просвещения, официально сообщили ему, что в столице попросту нет слепых детей! Разумеется, опытный борец с тягостным засильем бюрократов не поверил необоснованным россказням. Он приступил к самостоятельным поискам подходящих кандидатов и тут же обнаружил нескольких неимущих простолюдинов в богадельне прямо возле Смольного. Обрадовавшись, настырный иностранец был готов содержать их даже за свой счет, да обошлось!
Дело в том, что ловкие покровители наук из местной аристократии смогли ненавязчиво и доходчиво объяснить тщеславному царю, что появилась редкостная возможность досадить самому надменному Наполеону, который так и не разобрался в глубинном значении эпохальных свершений непритязательного специалиста. Наверное, еще молодому внуку Екатерины Великой не давала покоя ее реформаторская слава. И поэтому венценосец, впоследствии прозванный Благословенным, захотел доказать кичливой Европе, что ему тоже не чужды прогрессивные веяния.
Как бы то ни было, 1 августа 1807 года император лично утвердил сильно «урезанный» Устав «Санкт-Петербургского института работающих слепых», его немногочисленный штат и очень скромный бюджет. В учебное заведение предполагалось принять пятнадцать отроков без различия вероисповедания и сословной принадлежности. Это составляло лишь малую толику от предварительной договоренности. Вдумываясь в минувшее, снова хочется привести отрывок из проникновенного сочинения Михаила Суворова:
«А на Невском кружила,
Ворожила метель.
Ах, француз одержимый,
Запахните шинель!
В этой вьюжной Пальмире
Сквозняки, как свинец!
«Вы возок отпустили?
Вы к царю во дворец?» —
Голос глух и неясен,
Густо падает снег:
«Вам отказано в классах?
Вам не платят совсем?
Зимний блещет огнями
И в бокалах не квас,
Понимаете сами,
Что царю не до вас…»
Упертый максималист не любил сдаваться, поэтому в критичной ситуации для него была крайне важна поддержка мыслящей элиты, разделявшей взгляды фанатика прогресса. Вопреки отсутствию надлежащих помещений для проведения очных уроков, из Москвы, Кронштадта и других мест к Гаюи привозили неграмотных тотальников, но он многим вынужденно отказывал. Однако самых настойчивых неофициально зачислял на бесплатные краткосрочные курсы.
С переездом на Большую Миллионную улицу в дом 16 у него появилась возможность преподавать прямо в собственной квартире. В майской записке правительству он сообщал: «Мне посчастливилось добыть нескольких слепых детей, рассеянных в частных домах, из бедных семей. Я их кормлю, снабдил постелью и обучаю…»
Только через восемь месяцев после прибытия иноземец получил в свое распоряжение сильно запущенный особняк на углу Большого проспекта и Второй линии Васильевского острова. В этом мрачноватом здании без особых удобств поселилась и семья директора. К сожалению, недвижимость купца Раменцова оказалась совершенно неприспособленной для учебных целей. Вообще, по вине равнодушных бюрократов помпезный проект на практике оказался «недоношенным»!
Ознакомившись с плачевным положением дел, некий возмущенный петербуржец высказался так: «Быт учащихся крайне неустроен. Их спальня — зимою холодна, летом невыносимо душна. Комната для публичных собраний, вместе с тем, служит: наборною типографии, музыкальной залой и классом для "свободных" наук…» Однако искренние желания постичь грамоту и похвальное прилежание дисциплинированных учащихся все-таки давали благоприятные результаты. Не случайно гимназический инспектор И. Дольст, не раз проверявший учреждение, уверенно свидетельствовал: «Некоторые слепые изрядно преуспели в чтении по заведенному «обряду», в сочинении и печатании…»
Невзирая на все тяготы, упорный подвижник сразу же стал форсировать установку двух печатных станков и пресса, а главное — изготовление шрифта уже для изданий на кириллице. Постепенно, кроме учебников, нотных сборников и христианской литературы, под чуткими пальцами юных книгочеев оказались произведения Державина, Хераскова, Дмитриева и Крылова, а еще народные сказки, что расширяло кругозор. Недаром «пытливым грамотеям» так нравились уроки словесности. Пресловутый закон Божий, а также арифметика, история и география тоже фигурировали в плотном расписании уроков. Кроме того, ребят на профессиональном уровне обучали пению, игре на фортепиано, струнных и духовых инструментах, а из доступных ремесел они с удовольствием осваивали плетение корзин и стульев, картонажное и токарное дело.
Русский врач, публицист и общественный деятель А. И. Скребицкий полвека спустя писал: «Из этого скромного приюта, благодаря высокогуманной идее, впервые раздался благовест спасения для грядущих поколений, утративших зрение. Здесь было указано и средство успеха, а именно — труд, считавшийся до того времени для них невозможным…»
«Покатилась тряская телега,
Но не «тройка» — «птица в хомутах»…
Нам всегда для дружного разбега
Нужен срок особый на часах…
Судьбу не решишь на досуге,
Но вызрела эта пора,
Чтоб даже в убогой лачуге
Заря зажигалась с утра…»
Долгожданное погружение в регулярные занятия символично совпало с истечением годичного контракта, подписанного апологетом миссии добра. Тем не менее желание продолжить совершенствовать методы обучения незрячих побудили его задержаться на десяток лет, впрочем завершив активную профессиональную деятельность, уважаемый пенсионер все-таки вернулся в Париж, где внезапно пережил личную трагедию изнурительных мук недужного забвения.
За гранью сущего почти
Прилива сил напрасно ждете —
Довольно часто не в чести
«Слепая пуля» на излете.
Порой заложникам утрат
Цветистость зорь невыносима!
Рассветом кажется закат
Лишь тем, кого проносит мимо…
Рулить по-своему начнут
Неукротимые потомки.
У них замах привычно крут,
А планы вычурны и ломки.
Увы, маячит впереди
Пустая спешка вечных гонок
Да прозябание среди
Вошедших в раж незавершенок…